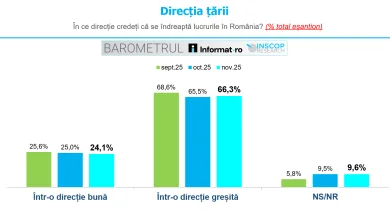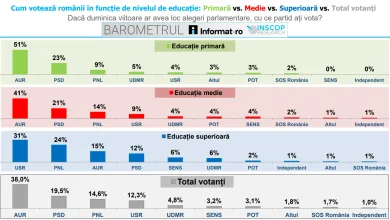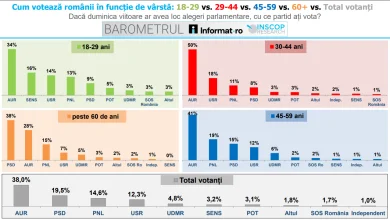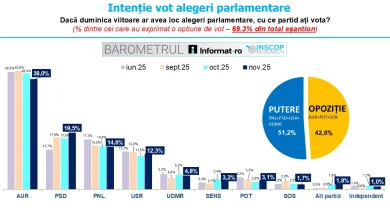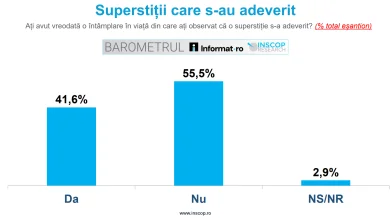Критическое прочтение социально-демографических профилей в INSCOP Barometer - Informat.ro от июня 2025 года о государственных расходах, глава, предложенная FSP-SNSPA.
Бюджет - это не просто таблица, а карта коллективных надежд и разочарований.
Когда граждан спрашивают, как они относятся к государственным расходам.
Когда граждан спрашивают, как должен распределяться государственный бюджет, они отвечают не как экономисты, а как члены сообществ, отмеченных избирательным опытом, системным недоверием и конфликтной социальной памятью. Результаты барометра INFORMAT.ro - INSCOP за июнь 2025 года, отражающего предпочтения населения в отношении распределения государственных расходов, дают обманчиво целостную картину: образование, здравоохранение и сельское хозяйство - любимые области для инвестиций, в то время как внешняя политика, социальная помощь и общественный порядок выглядят как области, символически принесенные в жертву.
Но за этими кажущимися предпочтениями скрывается то, что не может быть принято во внимание.
Данный текст предлагает критическое социально-политическое прочтение опроса, исследуя:
- противоречия между представлениями о перераспределении и социальным воображением институциональной эффективности;
- роль образования как "метафизического бюджета" надежды на будущее;
- и идеологические трещины, проходящие через электорат, замаскированные результатами большинства.
1.Иллюзорные приоритеты и условные солидарности
.Опрос, проведенный в июне 2025 года, на первый взгляд, свидетельствует об обществе с четкими приоритетами и "рациональной" иерархией сфер государственных инвестиций, в которой на первом месте стоит образование - 82,6 %, затем здравоохранение - 74,7 % и сельское хозяйство - 74,1 %. Эти почти плебисцитарные показатели можно было бы интерпретировать как признаки гражданской зрелости. Однако тщательный анализ социально-демографических профилей и внутренних противоречий свидетельствует о том, что на самом деле общество требует больше государства, но демонстрирует растущее недоверие к перераспределительным возможностям государства. <Отсюда ложная конвергенция, на которую указывают данные опроса, ведь когда почти все просят "больше", ни у кого нет уверенности в способах и логике распределения бюджета. Например, за увеличение расходов на образование в основном выступают люди с высшим образованием, жители крупных городов и работники бюджетной сферы, то есть именно те категории, которые в наибольшей степени подвержены дисфункциональной реальности системы образования. Таким образом, увеличение бюджета свидетельствует не о последовательном национальном видении, а о требовании возмещения и защиты, исходящем от тех, кто считает, что лучше всех понимает состояние образования.
Та же логика прослеживается и в восприятии здравоохранения, где люди старше 60 лет, избиратели PNL и жители Бухареста призывают к увеличению бюджетных ассигнований. Это не концепция всеобщего общественного благосостояния, а защитное выражение уязвимости. Опрос не просто измеряет бюджетный выбор, а указывает на реальную коллективную психологию выживания в условиях нестабильного государства.
<В то же время социальное обеспечение демонстрирует успех трех десятилетий воздействия неолиберальных нарративов о взаимосвязи между рыночной экономикой, освобожденной от социальных ограничений, и причинами бедности. Именно эта сфера вызывает наибольшее неприятие: четверть опрошенных, 25,4 %, призывают к сокращению бюджета социального обеспечения и только 44,8 % хотят его увеличить. Такое разделение свидетельствует о глубоком подрыве доверия населения к институциональной солидарности. Хотя в Румынии высок уровень бедности и неравенства, в общественном восприятии преобладают рассказы о злоупотреблениях, паразитизме и клиентелизме. Это является симптомом общества, в котором укоренилась усеченная идеология заслуг, где только некоторые категории воспринимаются как "достойные" защиты, а другие исключаются из морального сообщества.Ремус Ștefureac уместно замечает в коммюнике INSCOP, что "противоречие между теоретической поддержкой социальной помощи и открытостью к сокращениям в этой области указывает на кризис уверенности в эффективности перераспределения". Этот кризис носит не только технический, но и нормативный характер, отражая эрозию так называемого социального пакта в пользу "морального минимализма", при котором каждый должен сам заботиться о себе.
2.Образование как метафизический бюджет: надежда, заслуги и иллюзия социальной мобильности
.Возвращаясь к теме образования, отметим, что когда 82,6 % румын говорят, что хотят больше денег на образование, они не выражают педагогического консенсуса или системного видения. Это выражает коллективное желание выйти из тупика, символическую проекцию социального спасения в отсутствие других надежных горизонтов. Образование функционирует здесь как метафизический бюджет, как заменитель отсутствия уверенности в перераспределении, справедливости или эффективности рынка.
Парадокс заключается в том, что именно те, кто в той или иной степени был интегрирован через образование (высокообразованные, городские, высокоурбанизированные), наиболее настойчиво требуют увеличения бюджета. В то время как обездоленные группы, которые непосредственно выиграли бы от более справедливой системы образования, более сдержанны или вовсе отсутствуют в сфере требований. Образование больше не воспринимается как средство социального равновесия, но как инструмент символической дифференциации, форма морального капитала, который узаконивает существующее неравенство.
Эта динамика в значительной степени определяется искаженной версией меритократии, в которой заслуги предполагаются, а не конструируются, и в которой государственные инвестиции в образование желательны постольку, поскольку они подтверждают уже укоренившуюся иерархию.
Несмотря на то, что опрос не дает прямой оценки уверенности в социальной мобильности, ответы об образовании косвенно отражают ее. В обществе, где доверие к другим институтам невелико, образование остается единственной сферой, где может закрепиться надежда. Но это меланхоличная надежда, почти оторванная от реальности, - ностальгия по социальному договору, который так и не был выполнен.
Так что "больше денег на образование" в общественном восприятии не означает реформу учебных программ, инвестиции в подготовку учителей или сельскую инфраструктуру. Скорее, это диффузный запрос на восстановление смысла, форма символической компенсации перед лицом краха других институциональных ориентиров.
3.Порядок и страх: когда бюджет становится символической защитой
.Если образование - это проекция надежды, то общественный порядок - выражение страха. Почти 44 % румын просят увеличить бюджет на охрану общественного порядка, в то время как 15,9 % предпочли бы его уменьшить. На этом фоне артикулируется символическая география незащищенности, особенно городской и женской, которая превращает инвестиции в полицию и жандармерию в ритуал коллективного умиротворения.
Парадокс заключается в том, что закон и порядок не являются популярной областью гражданского дискурса, а скорее воспринимаются как необходимое зло. В общественных дебатах нет масштабных кампаний за "более эффективную работу полиции" или "более финансируемую тюремную систему". Однако восприятие социальных рисков - будь то миграция, преступность, протесты или городской хаос - активизирует консервативный рефлекс, который выливается в бюджетную поддержку.
В особенности среди избирателей СДП и в Бухаресте, порядок превозносится как символический барьер против социальных беспорядков. Это бюджет воображаемой профилактики, предназначенный не столько для решения реальных проблем, сколько для создания иллюзии контролируемого общества.
Кто хочет больше порядка? А кто не хочет?
Анализ по категориям показывает, что женщины и пожилые люди чаще поддерживают увеличение бюджета на поддержание правопорядка, и это отражает не авторитарную идеологию, а ощущаемую уязвимость.
С другой стороны, женщины и пожилые люди чаще поддерживают увеличение бюджета на поддержание правопорядка.
С другой стороны, молодые люди, пользователи TikTok и избиратели USR/AUR более сдержанны. Вероятно, они рассматривают правоохранительные органы как потенциально неправомерные, как форму контроля или сохранения статус-кво. Таким образом, опрос фиксирует молчаливый разлом между поколениями и воображаемым авторитетом, который может стать политическим в условиях кризиса.
4.Бюджеты, принесенные в жертву: социальная помощь и внешняя политика в условиях делегитимации
В то время, когда в стране наблюдается дефицит бюджетных средств
Во время кризиса стоимости жизни, миграции и хрупкости сетей поддержки опрос показывает глубокую социальную амбивалентность по отношению к солидарности: четверть румын призывают к сокращению социальной помощи, и только 44,8 % поддерживают ее увеличение. В стране с высоким уровнем детской бедности и социальной изоляции этот рефлекс свидетельствует о крахе консенсуса по перераспределению.
За этим предпочтением стоит не экономическая экономия, а моральная враждебность к определенным категориям, воспринимаемым как "нелегитимные": цыганам, хроническим больным, мигрантам, пенсионерам, которых считают "слишком многочисленными", или стигматизированным матерям-одиночкам. Мы имеем дело с морализацией бюджета, когда требуется не эффективность, а символическая "чистота". Таким образом, социальное обеспечение становится областью подозрений, где каждая потраченная копейка должна быть публично оправдана больше, чем инфраструктурный контракт.
5.Внешняя политика: мнимая роскошь
.Еще хуже обстоит дело с внешней политикой, где только 31,4 % призывают к увеличению расходов и 24 % - к сокращению. Эта цифра может показаться естественной в обществе, отмеченном внутренними лишениями, но она становится проблематичной, если учесть геополитический контекст: пограничные войны, ключевые европейские переговоры, региональные кризисы.
Не случайно поддержка дипломатии исходит от людей моложе 30 лет, высокообразованных и избирателей USR и PNL, то есть именно тех групп, которые думают о Румынии в глобальных терминах, связанных с альянсами, миграцией и европейским будущим. Остальные - большинство - похоже, рассматривают внешнюю политику как бесполезное приложение к администрации, которая в любом случае отсутствует. Таким образом, бюджет на внешнюю политику становится символом элиты, которая говорит на иностранных языках, но не чинит тротуары.
6.Выводы: между желаемым и терпимым состоянием
.Барометр INSCOP за июнь 2025 года не только показывает нам, что румыны думают о бюджетах. Он показывает нам, что осталось от идеи общественного договора в обществе, уставшем от обещаний, аксиологически поляризованном и функционально раздробленном.
На первый взгляд, мы имеем общество, которое требует больше государства: больше образования, здравоохранения, инфраструктуры, даже культуры. На самом деле мы имеем общество, которое хочет избирательного государства, государства, защищающего только тех, кто считается "достойным" защиты. Социальное обеспечение и внешняя политика - первые жертвы такого видения. Они не просто символически недофинансируются, но и морально делегитимизируются во имя неработающей меритократии и прагматичного национализма.
Бюджетные расходы, таким образом, превращаются в акт общественного осуждения: кто заслуживает, кто нет? Кто воспринимается как полезный, продуктивный, добрососедский? Кто остается за периметром коллективного сострадания?
За процентными показателями можно разглядеть общество, оказавшееся между двумя противоположными логиками:
- основанная на универсалистской социальной солидарности (все еще абстрактный идеал),
- и на упрощенном, квазиплеменном утилитаризме, который навязывает бюджетную обусловленность или устранение тех, кто воспринимается как "лишний"" .
Это напряжение между желаемым государством (репаративным, защитным, эффективным) и реальным государством (клиентелистским, контролирующим) порождает кризис политического воображения: румыны просят "больше", не веря, что они это получат. И, что еще хуже, не веря, что это должен получить каждый.
Постскриптум: Что нам делать с этими данными?
Для политиков и государственных стратегов данные этого опроса полезны только в том случае, если они критически интерпретированы. Мы не можем строить политику на иллюзиях консенсуса. То, что выглядит как список приоритетов, на самом деле является картой социальных диссонансов и скрытых конфликтов за легитимность. Настоящий вопрос заключается не в том, "где мы хотим увеличить бюджет?", а в том, "кого еще мы готовы включить в сообщество перераспределителей?". Пока мы не ответим на этот вопрос, все бюджеты будут оставаться воображаемыми.
Кристиан Пирвулеску
Об анализируемых данных
.Источником данных размышлений главы о восприятии бюджетных ассигнований стал исследовательский барометр INFORMAT.ro - INSCOP, проведенный 20-26 июня 2025 года по национальной репрезентативной выборке из 1150 респондентов методом CATI с погрешностью ±2,9%. Цель данной главы, предложенной FSP-SNSPA, заключалась в оценке общественного восприятия приоритетов распределения государственного бюджета в 12 стратегических областях.